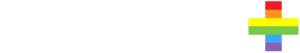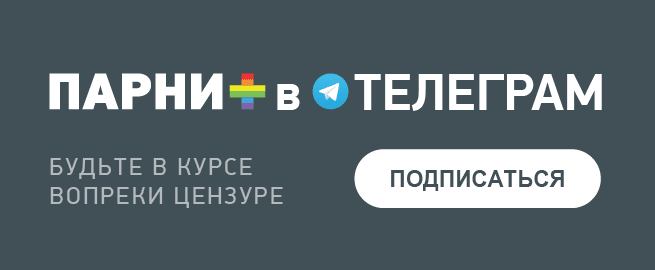Кажется, почти каждая история ЛГБТК+ человека похожа на остросюжетный сериал: боль, стыд, первое необъяснимое чувство, попытки стать «нормальным», непонимание, одиночество. Все истории в чем-то похожи, и всё же каждая — уникальна.
Свою я почти никому не рассказывал, разве что отрывки. Никто не слышал её целиком. Но сейчас, когда вокруг так много ненависти и попыток вычеркнуть нас из жизни, я считаю важным говорить. Пусть тихо, пусть анонимно. Но говорить. Потому что мы есть. Мы никуда не исчезли.
Там, где тишина знает по именам
Моя история начинается в маленьком провинциальном городе, где живет всего тридцать тысяч человек. Это размер, при котором ещё можно спрятаться за домами, но нельзя спрятаться от людей. Взгляды всегда догоняют, разговоры не заканчиваются и кажется, будто само пространство следит за тобой.
Отец ушёл, когда я был слишком мал, чтобы понять, что такое смерть. Мне сказали, что он «на небе», и я искренне представлял, как он стоит над облаками и смотрит вниз. Но в доме поселилась пустота — плотная и холодная, как утро ранней весны. Она въелась в маму, стала частью её походки, голоса, взгляда. Она осталась одна с двумя детьми, без права на слабость. Именно эта боль, огромная и тяжёлая, как камень в груди, привела её в храм.
Для мамы церковь стала единственным пространством, где можно было дышать. Там никто не спрашивал, почему глаза красные. Там можно было просто стоять среди запаха ладана, под тихое трепетание голосов. Я был рядом, впитывая каждую деталь: как горит свеча, как шепчет бабушка в платке, как свет ложится на иконы, и золото будто оживает.
Чем чаще я входил в храм, тем естественнее это становилось. Мир смягчался, когда звучал хор. Воздух наполнялся ароматом, когда батюшка проходил мимо с кадилом. Я будто попадал в другое измерение, где всё правильно и понятно. Где есть ответы — даже если ещё не знаешь, о чем спросить.
Когда меня в шесть лет спрашивали: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — я отвечал спокойно, будто речь шла о самом очевидном выборе на свете: «Батюшкой».
Это была мечта. Ощущение, будто путь лежит прямо под ногами — простой, ясный, единственно возможный. Тогда я ещё не понимал, что в том же свете храмовых лампад однажды столкнутся две силы: вера, ставшая частью меня, и то, что в будущем я назову «грехом».
Тёплый плед и тихий шёпот тела
Мама всегда казалась мне человеком, который держит мир одной рукой, а другой закрывает собственные раны. Её резкость, вспышки раздражения… Сейчас я понимаю, что это была не суровость, а усталость. Усталость человека, который слишком рано остался один и боялся потерять контроль. За всем стоял страх — провалиться, остаться без почвы под ногами. Она больше не вышла замуж. На мой вопрос «почему?», она ответила просто: «Боялась, что новый мужчина будет плохо к вам относиться». Она в одиночку поднимала меня и сестру.
Но со временем денег стало катастрофически не хватать. Пришлось принимать непростое решение. Мама с сестрой уехали на заработки в Москву, а меня отправили к бабушке.
Это был первый спокойный островок за все детские годы. Бабушка была мягким, принимающим человеком. С ней можно было говорить обо всем. Её дом был как тёплый плед: пахло пирогами и сушёными яблоками, скрип старого пола и её тихий голос навсегда останутся в моей памяти. Именно там, лет в десять, я впервые почувствовал что-то, чему не мог дать имя.
Я смотрел на красивых актёров по телевизору, на мальчишек во дворе — и внутри меня что-то мягко сдвигалось. Какая-то тихая тёплая волна, поднимающаяся из груди. Странное восхищение, от которого хотелось задержать взгляд чуть дольше. Тогда это казалось мелочью, ничего не значащим шепотом тела.
В одиннадцать лет, после окончания начальной школы, меня забрали в Москву. В день отъезда я не мог удержать слёз. Я плакал всю дорогу, пока машина увозила меня всё дальше от бабушки, от друзей, от единственного места, где я чувствовал себя счастливым. Меня вырывали из рая и везли в неизвестность.
Чужой город, чужой я
Москва встретила меня резко, холодно, слишком громко. Мама и сестра много работали, приходили поздно, иногда настолько выжатые, что не могли говорить. Я оставался один в тесной квартире, но внутри меня была пустота, и мне все казалось чужим.
Школа стала новым испытанием. У меня всегда были сложности с заведением новых друзей. В родном городе мы росли вместе с пелёнок, дружба возникала сама собой. Здесь всё было иначе. Я был полноватым, тихим, замкнутым ребёнком. Любил рисовать и читать, типичный «ботаник». Худо-бедно я нашёл компанию, но были и те, для кого я стал идеальной мишенью.
Дети чувствуют мгновенно, когда кто-то выделяется. Насмешки стали постоянными: над внешностью, манерой говорить, религиозностью. Любой жест, любое молчание становилось поводом для издёвки. Я старался не замечать всё это, убеждая себя, что мне всё равно. Но внутри копилось другое.
Спустя год жизни в Москве, в двенадцать лет, я стал прозревать. Я уже знал, что иногда мальчикам могут нравиться мальчики. Этот факт вызывал у меня живой интерес и одновременно леденящий страх. Потому что уже тогда было понятно: такая особенность может стать огромной проблемой.
Я начал замечать, что девочки не вызывают у меня того же интереса, что у других пацанов из моего класса. А вот мальчики — напротив. Мне нравилось на переменах смотреть на старшеклассников, уже сформировавшихся юношей. Я искал их в толпе, и меня повергало в ужас это предательское влечение. Я боялся, что к прозвищу «ботана» добавится «педик». И тогда жизнь станет невыносимой.
Почему я начал с самого начала? Это важно. Чтобы показать фон, на котором происходило моё взросление. Осознание своей инаковости породило первый, оглушительный конфликт в моей ещё не окрепшей душе. Строгая мать, её жертва, её усилия ради нас… Я не имею морального права её осуждать. Она сделала всё, чтобы нас вырастить. И я, видя это с детства, до сих пор испытываю глубочайшее чувство долга и безграничное уважение. Я люблю её всем сердцем. Но тогда, в детстве, я панически боялся её разочаровать. Своими чувствами, своими мыслями — втоптать в грязь все её жертвы. Не оправдать надежд, возложенных на меня.
С другой стороны, была моя религиозность. Та самая, что с детства прямо и бескомпромиссно называла связь между мужчинами смертным грехом. Конфликт между долгом и правдой, между верой и природой заставлял меня испытывать чудовищное чувство вины. Уже в тринадцать я считал себя неправильным, сломанным.
Мой внутренний голос не умолкал: «Ты неправильный», «Это грех», «Ты разочаруешь всех», «Если мама узнает — она отречется от тебя», «Для нее это станет ударом», «Так ты благодаришь её за все усилия?», «Неужели такой жизни ты себе хочешь? Вечный изгой»…
Я пытался избавиться от этих мыслей, успокаивал себя: «Это пройдет. Это переходный возраст, просто играют гормоны. Я нормальный». Но голос становился постоянным фоном моей жизни.
Шли годы. Я переходил из класса в класс, взрослел, но ничего не менялось. Становилось только хуже. В шестнадцать я уже ясно понимал, что к чему. Пришло осознание: это не временное явление. Это на всю жизнь. Жизнь, полная лжи и притворства. Не покидающее чувство вины. Презрение к самому себе. Вечный внутренний суд, оправдаться перед которым казалось невозможным.
В этом хаосе я принял решение: бороться. Нет, я не приму эту часть себя. Я её исправлю, выжгу из своей сущности. Стану нормальным, несмотря ни на что. Единственным выходом в тот момент мне казалась религия. Я не забыл свою детскую мечту стать священником. Напротив, все эти годы я упорно шёл к этой цели.
Железный ритм спасения
Каждое воскресенье я посещал храм. Со временем меня заметил настоятель и взял помощником в алтарь. В начале девятого класса я пошёл на вечерние богословские курсы, чтобы подготовиться к семинарии.
Всё это время я искал опору, способ перестать чувствовать себя сломанным. Вера была единственным, что не оборачивалось против меня. Мне казалось, если я полностью посвящу себя служению, погружусь в молитву и дисциплину — смогу выжечь из себя всё «плохое». Семинария виделась последним способом спастись от самого себя. Или спрятаться.
И после одиннадцатого класса я поступил в семинарию. Мне казалось, что я нашёл путь. Что теперь всё станет проще. Жизнь наладится. Как же тогда я ошибался.
Внутри меня жила та часть, которую невозможно было оставить за воротами монастыря. Еще на вступительных я ловил себя на взгляде, задержанном на симпатичном парне чуть дольше, чем следовало, и тут же себя одергивал. Я принес свой крест с собой.
Жизнь здесь была похожа на «Хогвартс», старинный монастырь, студенты в черном. Своя необычная романтика. Но реальность была расписана по минутам: ранний подъем, молитва, трапеза, пары, послушания, отбой. Дисциплина — сродни армейской. За любой косяк — мойка туалетов или чистка картошки. Я пытался раствориться в этом железном ритме, веря, что он задавит моё требовательное, живое вожделение. Но сердце оставалось упрямым.
Первые месяцы я балансировал на лезвии между верой и чувством, которое носил в себе. Казалось, стоит стать достаточно строгим, усердным, молчаливыми оно исчезнет. Но всё оказалось сложнее. Мы жили в общежитии по двое-трое. Душевая была общая.
Если для других поход в душ был рутиной, для меня он превращался в пытку. Густой пар, обнаженные юношеские тела, капли воды на торсах… Я старался ни с кем не пересекаться, вставая раньше всех, чтобы помыться в одиночестве. Но не всегда получалось. Стоило кому-то войти, и я замирал, уставившись в пол, пока глаза, предательски живущие своей жизнью, не поднимались против моей воли. Тело всегда честнее разума. Иногда даже слишком. Прозвучит странно, но я даже полюбил ледяную воду — она помогала прийти в себя и остановить «восстание плоти».
Слово, выпущенное на волю
В закрытой системе носить маску, как в миру, было невыносимо тяжело. Здесь ты всегда на виду. Семинария была всем сразу: школой, домом, кругом общения. И рано или поздно спрятанная часть должна была вырваться наружу. Случилось это глупо и нелепо.
На короткой перемене я вышел из аудитории, оставив ноутбук открытым. Нескольких минут хватило любопытным однокурсникам, чтобы залезть в мой браузер и найти то, чем в принципе грешат все подростки. С одной поправкой на специфику контента.
Улыбки. Шёпоты. Косые взгляды. Слухи разлетелись со скоростью звука. То, что я скрывал всю жизнь, стало тенью, привязавшейся к моим пяткам. Каждый смешок за спиной заставлял сердце проваливаться. Отношения с некоторыми ребятами изменились: появились грязные шутки, подколки. Я получил новое прозвище — «Эван Паркер». Были и те, кто не верил сплетням и поддерживал меня, за что я им бесконечно благодарен.
Страх, что слухи дойдут до преподавателей или ректора, висел надо мной дамокловым мечом. Если бы они узнали и поверили, меня бы вышвырнули с позором.
«Зачем ты вообще сюда пришел? Ты что, больной? Ты что, мазохист? Запереть себя в монастыре, полном молодых парней?», — справедливо спросит кто-нибудь. Да, я уже тогда четко знал, что я гей. Возможно, я был не в себе. Сейчас я понимаю всю абсурдность этого решения. Но тогда, в восемнадцать, всё виделось иначе.
Во-первых, была детская мечта стать священником. Во-вторых, глубочайшее чувство вины за то, кем я являюсь, и желание расшибиться в лепешку, но стать «нормальным» для своей семьи. В-третьих, я искренне верил, что строгий устав, аскеза и молитвы смогут «исцелить» меня.
Этот самообман длился недолго.
Трещина в плотине
Со мной в комнате жили двое. Один из них привлек мое внимание с первого дня. Он был красивым и добрым парнем, всегда на позитиве. Мы быстро подружились: много общались, смеялись, готовились к парам. Он мне безумно нравился, но я гнал от себя эти мысли, боясь разрушить нашу дружбу и предав ту цель, с которой пришел сюда.
Ночью, в темноте, я слушал, как сердце колотится так громко, будто рвется наружу. Чувствовал дрожь в руках — верный знак, что что-то приближается, чего я так страшусь и так жажду.
Одним вечером мы гуляли по территории, и разговор неожиданно стал откровенным. Мы, как ни странно, говорили о девушках. Я безбожно врал, сочиняя истории на ходу, лишь бы узнать о нём больше. А он рассказывал… Беседа становилась всё раскрепощеннее и откровеннее. Месяцы воздержания делали свое дело. Внутри меня разгорался огонь, противостоять которому у меня уже не оставалось сил.
Этой ночью я не сомкнул глаз. Мысли метались, не давая покоя. Воображение рисовало откровенные сцены с ним. Он был рядом, лежал надо мной на втором ярусе кровати.
Дрожащими руками я взял телефон: «Ты не спишь?». Он ответил почти мгновенно. Этот маленький диалог стал первой трещиной в плотине. Мы переписывались, стараясь не разбудить соседа. Я чувствовал ту границу, которую боялся пересечь всю жизнь. Но это не остановило меня.
Я задал вопрос, вопреки разуму — о его опыте с парнями. Он молчал минуту, другую.
-Нет, -наконец ответил он. —А у тебя?
-Тоже нет, -ответил я. И это была чистая правда.
Можно было остановиться, свести всё к шутке. Но мы продолжили. Ночная переписка привела к тому, что рано утром, пока все спали, мы оказались вдвоём в душевой.
Всё произошло. Мы переступили ту грань, за которой для меня начинался грех. Это был не «полноценный» секс, а короткий, торопливый, испуганный оральный контакт. Но суть не в действиях, а в том, что они для меня значили. Это был сокрушительный удар по всем моим убеждениям.
Страшнее всего было вот что:
- Место. Это случилось в семинарии — там, где меня учили близости к Богу, где ждали чистоты. Для меня это было святотатством.
- Смысл. Я пришел сюда бороться и стать другим. А вместо этого сделал шаг в пропасть. Все молитвы, посты, труды — всё стало бессмысленным.
- Вина перед близкими. Я не смог. Я подвёл их.
- Религиозный ужас. Грех перестал быть абстракцией; он стал плотью и угрожал уничтожить смысл моей мечты.
- Чувство, что втянул другого. Я понимал, что он, возможно, тоже борется с собой, и теперь это моя вина.
Бездна ада раскрылась прямо передо мной. Я падал в самые её темные глубины и тянул за собой его. Мы не проронили ни слова. Вернулись в комнату в гнетущем молчании. На его лице я видел то же смятение, что бушевало во мне, и ещё кое-что — взгляд, полный презрения и осуждения. В нём ясно читалось: «Это твоя вина».
Прощение за час до рассвета
В полном отчаянии я побрел в храм, где как раз начиналась ранняя служба. Каждый шаг отдавался в душе тяжелым звоном, будто я шел на казнь.
Через час после того, что случилось в душе, я стоял на исповеди — дрожащий, бледный. Выдавливал из себя самое страшное, запинаясь и краснея, опасаясь, что тяжесть греха перевесит тайну исповеди и священник доложит начальству. Он слушал спокойно, без осуждения, но каждое его слово падало на меня камнем: пост, молитвы, покаяние. Всё было как в тумане.
И вот, преклонив колени, я услышал заветные слова, луч света в непроглядной тьме: «Прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих». Я почувствовал облегчение — будто нырнул в ледяную воду и вышел другим человеком. Тяжесть на мгновение отступила.
Мне казалось, что, пережив такое потрясение, пройдя за пару часов все круги ада, я больше никогда не повторю этой ошибки. Не захочу снова через это проходить. Но это был только начало.
На какое-то время мы отдалились. Не общались, избегали друг друга. Мне было стыдно смотреть ему в глаза. Шла зима, приближалась сессия. Я с головой ушел в учебу, и со временем нам удалось сделать вид, будто ничего не было. Как будто нам это просто приснилось.
После сессии нашего третьего соседа отчислили за неуспеваемость. Мы остались в комнате вдвоем. Я боялся повторения, но еще больше боялся самого себя. Внутренняя борьба стала невыносимой; удерживать плотину голыми руками было всё труднее.
Привыкание к падению
Когда мы оставались одни, напряжение нарастало мгновенно. Мы почти не разговаривали, словно боялись, что любое слово сорвет нас в пропасть. В какой-то момент всё повторилось. Потом снова. Это уже не было случайностью — это становилось закономерностью. И каждый раз после этого я чувствовал глубочайшее отвращение к себе, будто проиграл войну, которую вёл с самого детства.
Однажды вечером за учебой он сказал:
-У меня… такое уже было. До семинарии.
Это признание повисло в воздухе. Я почувствовал себя обманутым. Мне казалось, мы оба впервые переступили грань несколько месяцев назад. А оказалось, он знал себя лучше. То, что для меня было крушением мира, для него уже не было новостью. И снова волна вины: он боролся, а я стал тем, кто втянул его обратно.
Но это была и новая реальность. Та часть меня, которую я тщетно пытался запереть, вырвалась на свободу. И сил загнать её обратно уже не оставалось. Пришлось учиться с этим жить.
Когда между нами случился полноценный секс, во мне что-то окончательно переломилось. Это не было освобождением или принятием. Это было крушением. Крахом надежды «жить как все».
Пока это происходило, меня будто не было. Я чувствовал тело, небольшую физическую боль, но не себя. Он был рядом, но я не мог быть рядом с собой. Всё словно происходило в другой реальности.
Когда всё закончилось, я сидел в тишине, вцепляясь в простыню, будто она могла удержать меня от падения. Он смотрел на меня, не понимая, а я не мог вдохнуть. Стены давили, потолок опускался.
В этой полутьме я впервые с горькой, разъедающей честностью понял: я не стану священником.
Не смогу жить в лжи. Нельзя стоять перед Богом, когда всё твоё существо — это страх и отрицание. Нельзя проповедовать любовь, когда внутри живёт одна лишь ненависть к себе.
После этого признания впервые за долгое время в душе наступил покой. Первый, робкий проблеск принятия. С этого момента жить стало чуточку легче. Я больше не испытывал прежнего всепоглощающего чувства вины после каждой близости. Пропала потребность немедленно бежать на исповедь. Это стало частью нашей жизни, хоть глубоко внутри и сидело ощущение, что всё это неправильно. До полного принятия себя было ещё далеко, но это был значительный шаг.
Мы сблизились ещё сильнее. Нас связывала общая тайна. Мы проводили время вместе, гуляли, смотрели фильмы, а после отбоя, украдкой, с опаской, наслаждались друг другом.
Закончился первый курс. Мы разъехались на лето и я, к своему удивлению, скучал по нему и по другим ребятам. Мне хотелось поскорее вернуться, начать второй курс. Но желания порой играют с нами злую шутку.
Чужой в знакомых чертах
Второй курс начался обманчивым спокойствием, будто море после бури накрыл штиль. Я ловил себя на мысли, что самое страшное — борьба с собой — уже позади. Но спокойствие — вещь коварная. Оно не лечит, а лишь приглушает боль, чтобы потом ударить с новой силой.
Мы вернулись, но жить вместе нам было не суждено. В семинарии была традиция каждый год менять соседей. Он попал к «золотой молодёжи» — сыновьям влиятельных московских священников, для которых чувство избранности было воздухом. Они смотрели на таких, как я, свысока. Они не забыли ту историю с ноутбуком.
И мой вчерашний друг, с которым мы прошли через столько терний, перенял их взгляд. Он начал смотреть сквозь меня, будто между нами ничего не было. Отворачивался, когда я пытался заговорить. Хуже всего были взгляды его новых приятелей — косые, оценивающие, унизительные.
Он принял правила их игры. В тот момент в мою жизнь вошло предательство. Наши пути разошлись. Мы жили в одном месте, ходили на одни пары, вместе дежурили на кухне, но это была лишь видимость близости. Физически рядом, а морально в разных вселенных.
Я больше не пытался ни с кем завести подобные отношения. Это было опасно да и… не хотелось. Хотя желание физической близости никуда не делось. Я остался в одиночестве, несмотря на то, что меня окружали люди.
Год тянулся мучительно медленно. Ничего особенного не происходило. Но каждый день незаметно приближал меня к ошибке, которая вполне могла стоить мне жизни.
Февраль. Парк. Нож
В феврале меня и группу студентов отправили в Москву на торжества по случаю интронизации Патриарха (Интронизация — это торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Патриарха, главы Русской Православной Церкви. Это аналог инаугурации для религиозного лидера. Годовщина интронизации — это ежегодное празднование этой даты, сопровождается торжественными богослужениями и приездом высоких гостей из других регионов).
Нашей задачей было встречать и размещать епархиальных архиереев (высший духовный руководитель в пределах своей церковной области, которая обычно совпадает с субъектом РФ или областью, он управляет всеми приходами и монастырями на своей территории). На это время мы жили в гостиницах, и это была редкая передышка от стен семинарии, короткое время послабления. Мы могли свободно выходить в город, ездить с ночевкой домой, если жили в Москве. Если такой возможности не было, оставались ночевать в гостинице в которой помогали.
Для меня это был шанс. Шанс вновь почувствовать рядом с собой человека, ощутить себя желанным хотя бы на одну ночь.
Я не знал тогда о специальных приложениях, но нашел тематическую группу «ВКонтакте». Познакомился с парнем, договорился о встрече. Под предлогом поездки домой отпросился у нашего непосредственного начальника из числа духовенства (далее я буду называть его просто «куратор»). И вечером отправился в город.
Мы встретились у метро и пошли к «нему» через зимний парк. Хруст снега, темнота, мороз, режущий лицо. Я шел на полшага впереди, а он рядом. И вдруг удар сбоку. Резкий, оглушающий. Мир перекосился, во рту отчетливый привкус крови. От неожиданности я потерял равновесие и рухнул в снег. Он навалился на меня сверху, и я почувствовал у горла холодное прикосновение металла. Холодное, как сам февраль.
-Отдавай всё. Телефон. Деньги. Все.
Я не понимал, что происходит. События неслись со скоростью звука. Я отдал всё, даже не думая о сопротивлении, во мне остался только первобытный страх. Он это понял, убрал нож и позволил мне встать, держа нож на виду. Тогда началось самое страшное.
-Отброс. Говно. Голубой. Вас давить надо.
Он сунул мне в руки мой же телефон, требуя снять защиту. Я не мог вспомнить пароль, не мог выйти из iCloud. Он злился, пинал меня, пока я в отчаянных попытках тыкал в экран дрожащими пальцами. Со второй попытки получилось. Он вырвал телефон.
-Снимай пальто.
Я подчинился. Всё это время я был в трансе, от шока, от страха, от унижения. Увидев под моей рубашкой цепочку, он сорвал ее вместе с нательным крестом.
-Ещё раз увижу тебя в той группе — убью. А теперь вали отсюда.
Я развернулся, чтобы уйти, и он успел отвесить мне последний, презрительный пинок.
Я остался один. На улице, зима, я в тонкой рубашке. Дрожащий, униженный. Снег жёг кожу, я не чувствовал ног — только всепоглощающий страх и одно желание: пережить эту ночь.
До гостиницы я добрался как в тумане. Обиднее всего было то, что телефон, который он украл, был совсем новый, его месяц назад на Новый Год подарила сестра. Наверное, я должен был быть благодарен, что остался жив, но в тот момент я мог думать только о новом витке вины перед родными. Снова моя ориентация стала источником беды.
Разбор крушения по пунктам
У входа в гостиницу меня заметил охранник. Посыпались вопросы: «кто такой? что делаешь? почему в таком виде?». Я коротко объяснил, что студент семинарии, который здесь помогает. Ехал домой, на меня напали. Правду говорить было нельзя.
-Всё ясно, вызываю полицию.
Я хотел возразить, мне не хотелось внимания, я хотел забыться. Но мелькнула мысль: а вдруг его поймают по горячим следам? Вдруг я смогу вернуть телефон? Хотя бы перед сестрой не будет так стыдно. Я промолчал.
Полиция приехала быстро. Я не успел ничего придумать. Сбегал в номер, одолжил у товарища пальто и денег на проезд. Меня посадили в машину и увезли.
В отделении дали бланк: «Пиши, что произошло». Я описал всё размыто, но уже не мог врать, что просто ехал домой. Ложные показания грозили новыми проблемами. Опер, читая заявление, вызвал меня в кабинет.
— «Зачем вы туда пошли? Для чего встречались? Что вы там делали? Откуда знакомы?». И другие вопросы, солгать на которые или выкрутиться было нельзя. Мои ответы обнажил всю суть произошедшего
Мир рушился у меня на глазах. Я рассказывал, снова проживая тот ужас, и в его глазах видел только презрение. Я умолял его не раскрывать деталей, если позвонят из семинарии или мой куратор. Он буркнул: «Ладно».
Меня перевезли в другое отделение, по месту преступления. Допрос повторился. Врать было бесполезно, но слова слетали с губ с трудом. Произносить вслух то, что случилось, было невыносимо. Потом была поездка на место преступления: опознать, показать, как и что было. Опера сделали снимки. Время поджимало, было уже семь утра, а к восьми я должен был быть на дежурстве.
«Тебе нужно снять побои, вот адрес». Я не поехал. Я бегом помчался в гостиницу, опоздав на пятнадцать минут. У входа меня ждал наш куратор. Я попытался пройти мимо, пробормотав: «Извините, позже всё объясню».
«Ты мне сейчас же всё объяснишь!». Его голос был обжигающе гневным. Он завел меня в пустой кабинет и приказал рассказывать.
Я начал с той же версии, что и охране. Он резко оборвал: «Врёшь! Я всё знаю!». Оказалось, утром он хватился меня, и сотрудники гостиницы рассказали о происшествии. Он позвонил в первое отделение, и там ему выложили всю подноготную моего дела.
В тот момент я понял, что это конец. Он уже сообщил наверх. Мне не оставалось ничего, кроме как умолять. Я полчаса ползал у его ног. Гордости не осталось, только слезы, унижение и животный страх. Я плакал, умолял, просил не губить мою жизнь. В ответ я слышал лишь: «У тебя только второй курс. Напиши заявление по собственному, поступай в светский вуз. Два года — не страшно».
Для меня это было страшно. Как я объясню дома, почему ушёл? Как расскажу о потере?
«Ты же понимаешь, как ты нас опозорил? Зачем нам очередной голубой скандал? Твой образ жизни не сопоставим со званием студента духовной школы. Ты поступил глупо, ты должен бы приложить все усилия, чтобы скрыть свой позор, а ты вызвал ментов».
В этот момент ему позвонил секретарь начальника службы церковного протокола того самого священника, самого строгого и влиятельного в Москве, которого боялись все, от студентов до духовенства. Я ловил отрывистые фразы их разговора и понял главное: моё заявление стало проблемой, а «сообщить наверх» означало доложить именно этому секретарю, а не его всесильному шефу.
Положив трубку, куратор вынес приговор: «Значит так. Поедешь в отделение и заберёшь заявление. И тогда я не стану звонить ректору. Тебя накажут, но не отчислят. Свободен».
Горькая цена
Я вновь поехал в полицию, где все взгляды уже были холодные, полные презрения и усмешек. О случившемся во всех подробностях знало все отделение МВД.
-Я хочу забрать заявление, сказал я дежурному.
Он посмотрел на меня, как на идиота.
-Зачем?
-Просто хочу.
-Это не так просто. Оно уже у следователя. Пиши прошение на имя начальника.
Я написал. Он нехотя принял бумагу.
-А ты в курсе, что твои действия можно трактовать как дачу ложных показаний? Это статья.
Не знаю, серьёзно он говорил или издевался, но мои нервы сдали. Меня прорвало. До этого я не писал, сколько слёз было пролито за эти сутки. Но здесь нужно прояснить. Снаружи это выглядело как тихое оцепенение: я просто стоял, и слёзы сами текли по моему лицу, не встречая сопротивления. Но внутри это был оглушительный взрыв, который разорвал меня на части.
Я рыдал беззвучно, всем телом, зажимая крик где-то глубоко в горле, превращая его в ледяную пустоту. Во мне не осталось ни капли сил, чтобы выдержать этот ад: нападение, допросы, угрозу отчисления, потерю, вину.
Я, девятнадцатилетний подросток, оказался между двух огней: куратором, в чьих руках была моя жизнь, и полицией, которой я боялся и не доверял. В тот момент мне казалось, что жизнь кончена. Я горько сожалел, что она не оборвалась еще там, в парке.
Дежурный, видимо, понял, что перегнул.
-Подожди, вызову опера.
Ко мне подошел другой мужчина, не тот, что был ночью. Он пригласил в кабинет, предложил воды. Впервые за все это время кто-то проявил сострадание. Его взгляд был без осуждения, с каким-то, пусть и непонимающим, теплом.
-Почему решил забрать заявление?
Я объяснил. Он кивнул.
-А если я скажу, что ты его забрал?
Я не понял.
-Понимаешь, то, что случилось с тобой, может повториться. С другим. Ты уже вляпался в это дело. Неужели хочешь оставить всё как есть? Другим может повезти меньше.
Он взывал к моей совести, обещал, что никто не узнает, что заявление не отозвано. Я не верил, просил письменных гарантий. Он сказал, что не может их дать. Но если позвонят — подтвердит.
После долгих уговоров я, скрипя сердцем, поверил ему. Не знаю почему. Возможно, мне было уже все равно. Или я понимал, что мне все равно не дадут его забрать.
Приговор «грязному сосуду»
Я вернулся в гостиницу и отчитался, что заявление забрал. Хотя это была ложь. Весь день я отсыпался. Вечером куратор снова вызвал меня: «Всё улажено. В семинарию сообщили, что ты опоздал на дежурство. За это строгий выговор с занесением в личное дело». Он посмотрел на меня прямо.
«И ещё. Пообещай, что после окончания не будешь даже пытаться принять сан. Ты сам знаешь, канон требует чистоты. А ты себя запятнал. Не может грязный сосуд принять в себе чистое». В глубине души я знал, что он прав. По крайней мере, в том, что мне больше нет места среди духовенства.
«Найди девушку, женись. Выкинь эту дурь из головы. А если не сможешь… не усугубляй грех. Твое рукоположение будет преступлением перед Богом».
Согласно церковным канонам, кандидат в священники должен вести безупречную духовную и телесную жизнь. В православном понимании, во время обряда хиротонии (рукоположения) на человека сходит благодать Святого Духа и «поселяется» в нём, как в сосуде, даруя право совершать таинства. Любой «смертный грех», к которому традиционно относят и гомосексуальные отношения, считается оскверняющим этот сосуд, делая рукоположение недействительным, а для самого человека — духовно опасным.
И я пообещал. Пообещал, что исправлюсь, и что не буду стремиться к сану. Но страх, что оперативник не сдержит слово, не отпускал меня месяцами. Что всё всплывет, и я не смогу ничего объяснить матери и сестре.
Чашка чая для преступника
Через неделю преступника поймали. Я приезжал на опознание. Снова косые взгляды, едкие замечания в свой адрес: «длинные волосы», «сладкий парфюм», «бабский». Мне было уже всё равно. На очной ставке я узнал, что телефон он успел продать, а мой нательный крест и цепочку сдать в ломбард.
И тогда случилось то, что добило меня окончательно. После очной ставки задержанного вывели в коридор. Я оставался в кабинете, подписывать протоколы, дверь была приоткрыта. Мимо прошел полицейский и завёл с ним разговор. Он расспрашивал его о задержании, о том, как он себя чувствует. Слышно было, что в его голосе не было осуждения — только снисхождение, даже жалость.
А потом прозвучали слова, которые врезались в память навсегда, что-то вроде «Сейчас чайку налью» и с оттенком сожаления — о том, что теперь тому придется отвечать «из-за какого-то педика».
Я всё слышал. Во мне всё закипело от несправедливости…. Ко мне — столько ненависти, хотя я ничего не совершил. А он, едва не уничтоживший мою жизнь, получал сочувствие и чай. Я молча подписал бумаги и ушел. Больше в том отделении я не появлялся.
Через несколько месяцев дело передали в Следственный комитет. От нового следователя я узнал шокирующие детали: я был не единственной его жертвой. Всего их было тринадцать или четырнадцать, точно не помню и один из пострадавших несовершеннолетний, что и послужило причиной передачи дела следователю по особо важным делам.
Он же сказал, что мне ещё повезло — обычно нападавшие работали группой. К тому моменту у меня не осталось никаких сил, и я написал отказ от участия в суде и, как следствие, от возмещения ущерба… Наконец-то этот ад закончился.
С той ночи со мной навсегда остались её последствия. Я не могу спокойно стоять, если кто-то подходит сзади. Любой шаг за спиной мгновенно возвращает меня в тот парк, в тот снег, к лезвию у горла. Я вздрагиваю так резко, что люди оборачиваются.
Иногда от неожиданности испуг вырывается наружу, когда криком, когда сдавленным матом. Мне становится стыдно, и от этого ещё хуже. Я пытаюсь сгладить неловкость улыбкой, но под этой маской внутри меня бьется в истерике что-то первобытное: «Отойди. Дай видеть тебя. Не подкрадывайся». В метро я всегда стараюсь встать спиной к стене, чтобы видеть всё впереди. Этот страх въелся в подкорку, стал физическим рефлексом, который я не в силах контролировать.
Так закончился мой второй курс. И так рушилась моя юность вместе с мечтами.
Последний аккорд «нормальности»
На третьем курсе, следуя совету того самого куратора, я вновь предпринял попытку стать «нормальным». Я знакомился с девушками. Мы гуляли, сидели в кафе, ходили на студенческие балы, строили нечто, снаружи похожее на правильные отношения.
С одной из них я встречался чуть больше года. Она была очень хорошей, доброй, умной, скромной. Но главное, она по-настоящему любила меня. Сначала это была влюбленность, потом её чувства стали только глубже. Я же продолжал жить в монастыре и учиться, лелея в глубине души тлеющий уголёк надежды: вот я докажу всем и самому себе, что исправился, что стал «нормальным», и тогда моя мечта о служении станет возможной.
Она часто приезжала ко мне, привозила что-то вкусное, что готовила сама. Мне было безумно приятно её внимание, её забота. И в какой-то момент я почти поверил, что это и есть счастье.
Но была одна проблема, перечёркивающая всё. Я не испытывал к ней таких же чувств. Мне было хорошо, комфортно. Возможно, возникла привязанность. Но не любовь. От этого осознания мне становилось невыносимо плохо.
Я продолжал врать. Ей — что всё в порядке. Себе — что вот-вот полюблю. Родителям и всем окружающим — что нашел свою судьбу.
Порой мне было физически противно от собственного лицемерия. Я ненавидел себя за этот обман. Но я цеплялся за веру в то, что её любви хватит на нас обоих, что я смогу, должен. В конце концов, сколько браков заключаются не по любви? Весь год наших отношений мы не были близки. Хотя намеки с её стороны были. Я оправдывался православной традицией, необходимостью дождаться свадьбы. Как же мне было мерзко в эти моменты.
Но настал миг, когда отпираться стало невозможно. И я решился.
Когда наступил тот самый момент, моё тело отказалось. Оно не слушалось уговоров, не подчинялось воле. Оно говорило со мной на языке плоти, более честном, чем все мои мысли: «Хватит врать. Ты другой».
Выкрутиться было трудно, но я нашёл слова. Списал всё на волнение, на усталость. Это была очередная, может, самая подлая ложь в этой цепи. И именно тогда, после этой неудачи, во мне что-то окончательно встало на свои места.
Во-первых, я понял: я больше не могу ей врать. Я не имею права калечить её жизнь и осквернять своим обманом таинство брака.Во-вторых, я окончательно, на уровне каждой клетки, признал: моя ориентация — это не выбор, не каприз, не ошибка воспитания. Это я. Такой, какой есть.
Хватит бегать. Хватит лгать. Хватит причинять боль себе и другим. Ничего уже не изменить, да и невозможно было изменить с самого начала.
Мы расстались. Я старался сделать это максимально безболезненно, постепенно отдаляясь. Думаю, женщины чувствуют такие вещи на клеточном уровне. Наша история закончилась не самым плохим, но и не самым хорошим образом, ведь изначально она была построена на обмане. Но я не совершил главной ошибки, не женился на ней. И я благодарен ей за ту доброту и заботу, что она мне подарила. Надеюсь, я смог хоть чем-то отплатить ей за это.
Амнистия, подписанная собственным сердцем
Когда до окончания семинарии оставался год, я смирился с данным когда-то обещанием. Этот приговор я уже давно принял внутри себя. В конце концов, не обязательно стоять в алтаре, чтобы творить добро и помогать людям. Мне там больше не было места.
Тогда я дал себе обет: каждый, кто попросит меня о помощи, получит её. Если это в моих силах, сделаю всё возможное. Постараюсь прожить жизнь так, чтобы в конце её мне не было стыдно.
Во мне наконец наступил покой. Я смирился с мыслью, что могу ошибаться в своих представлениях о Боге. Главное, я нашёл в себе силы быть честным. И если моя вера в собственный тезис: «Если Бог есть Любовь, может ли Он наказывать за нее?», окажется заблуждением, если те, кто называют мою ориентацию грехом, правы, я всё равно верю, что на Его суде учтут не только мои ошибки, но и всё хорошее, что я сделал, все моменты, когда я выбирал добро и сострадание. Верю, что это будет иметь значение.
С этими мыслями я покидал семинарию, место, бывшее мне домом шесть долгих лет. Уходил тихо, без скандалов и объяснений. Я сдержал слово. Тогда мне казалось, что я проиграл. Сегодня понимаю: это было первое по-настоящему честное решение в моей жизни.
С годами я постепенно уходил от церковной структуры, но не от веры. Она осталась глубоко во мне, вскормленная с детства. В светском мире было нелегко. Специфическое образование закрывало многие двери. Но в итоге я нашёл своё место.
Все эти годы после выпуска я был один. Травма того февральского нападения жила во мне: почти ни с кем не знакомился, встречи были редкими и тщательно спланированными. Соглашался на свидание только после долгой переписки. Мне казалось, что одиночество — это справедливая плата за мою тайну. Так будет лучше. Не нужно придумывать истории для мамы, не нужно снова лгать.
Пока я не встретил его…
Когда мы познакомились, я не строил надежд. Более того, не хотел отношений. Не верил, что способен полюбить. Мне казалось, эта часть меня навсегда атрофирована, выжжена чувством вины и страха. Но это случилось.
Мне было двадцать пять, ему — двадцать один. Мы встретились почти случайно. И полюбили друг друга. Впервые в жизни я позволил себе быть счастливым. Без оглядки. Без немедленного чувства вины. Без мысленной подготовки оправданий. Я наконец-то понял, что значит любить и быть любимым. Что значит быть собой.
На это у меня ушли годы. Трудные, мучительные годы. Но они привели меня сюда.
И я верю: если моя история поможет хотя бы одному человеку принять себя, понять, что он не один в своей боли, значит, всё, через что я прошёл, было не зря.
Если вы читаете это и чувствуете одиночество, если вам кажется, что вы зашли в тупик и выхода нет, — знайте: выход есть. Вы не одни.